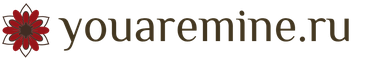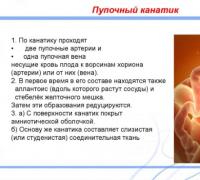Главные герои придешь когда в спа. Генрих Бёлль: Путник, придешь когда в Спа
Рассказы написанное от первого лица, события происходят во время второй мировой войны. В названии произведения Белль использует первые строчки знаменитой эпитафии тремстам спартанцам, которые полегли, защищаясь от нашествия персов.
Санитарная машина, в которой находится герой, подъехала к великой ворот. Он увидел свет. Машина остановились. Первое, что услышал, был усталый голос, который спрашивал, есть ли в машине мертвецы. Шофер выругался на то, что везде столько света. Но тот же голос, который спрашивал про мертвецов, заметил, что нет никакой нужды делать затмения, когда весь город в огне. Затем вновь говорили коротко: о мертвецах, где их сложить, и о живых, куда их нести. Поскольку герой еще жив и осознает это, его несут вместе с другими ранеными в зал рисования. Сначала он видит длинный коридор, вернее, его окрашенные стены со старомодными крючками для одежды; потом двери с табличками, что вешают на классные комнаты: «6 А, 6 Б» и т.д., тогда репродукции с картин между этими дверями. Картины славные: лучшие образцы искусства от античности до современности. Перед выходом на лестничную площадку колонна, а за ней искусно сделан гипсовый макет фриза Парфенона. На лестничной клетке изображения кумиров человечества - от античных до Гитлера. Санитары несут носилки быстро, поэтому герой не успевает осознать все, что он видит, но кажется ему то все на удивление знакомым. Например, эта таблица, перевитая каминным лавровым венком с именами павших в предыдущей войне, с большим золотым Железным крестом наверху. Впрочем, подумал он, возможно, все это только грезится ему, ибо «все у меня болело - голова, руки, ноги, и сердце колотилось, как неистовое». И снова видит герой двери с табличками и гипсовые копии с бюстов Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия. «А когда мы зашли за угол, появилась и Гермесова колонна, а дальше, в глубине коридора,- коридор здесь был окрашен в розовый цвет, аж в глубине, над дверями зала для рисования, висела огромная обличие Зевса, но до нее было еще далеко. Справа в окне я видел зарево пожара - все небо было красное, и по нему торжественно плыли черные, густые облака дыма». Он заметил и узнал прекрасный вид Того, и изображенную на нем на первом плане связку бананов, даже надпись на среднем банане, потому что он сам когда-то такой нацарапал. «Вот широко распахнулись двери зала рисования, я упал туда под изображением Зевса и закрыл глаза. Я не хотел больше ничего видеть... в зале рисования пахло йодом, калом, марлей и табаком и стоял гомон».
Носилки поставили на пол. Герой попросил сигарету, кто-то сунул ее уже зажженную в рот. Он лежал и думал: все, что он видел, еще не доказательство. Не доказательство того, что он оказался в школе, которую покинул всего три месяца назад. Видимо, все гимназии похожи друг на друга, думал он, пожалуй, есть правила, где сказано, что именно там должно висеть, правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии. Он не мог поверить, что оказался в родной школе, потому что ничего не чувствовал. Боль, который так мучил его по дороге в машине, прошел, наверное, то действие каких-либо лекарств, что ввели ему, когда он кричал. Закрыв глаза, он вспоминал все, что только что видел, словно в бреду, но так хорошо знал, потому что восемь лет не мелочь. А именно восемь лет он ходил в ту гимназию, видел те классические произведения искусства. Он выплюнул сигарету и закричал. «...когда кричишь, становится легче, надо только кричать сильнее, кричать было так хорошо и я орал, как оглашенный». Кто-то наклонился над ним, он не открыл глаз, почувствовал только теплое дыхание и «тошнотворно пахнуло табаком и луком», и некий голос спокойно спросил, чего он кричит. Герой попросил пить, снова сигарету и спросил, где он находится. Ему ответили - в Бендорфі, то есть в его родном городе. Если бы не лихорадка, он бы узнал свою гимназию, почувствовал бы что-то, что должен испытывать человек к родному месту,- подумал герой. Наконец ему принесли воды. Нехотя открыв глаза, он увидел перед собой уставшее, старое, небритое лицо, пожарную форму и услышал старческий голос. Он пил, с наслаждением ощущая на губах даже металлический привкус казанка, но пожарник неожиданно отнял котелка и пошел прочь, не обращая внимания на его крики. Раненый, лежавший рядом, пояснил: в них нет воды. Герой посмотрел в окно, хотя оно и было затемнено, «за черными запонами теплилась и мелькало,- черное на красном, как в печке, когда туда подсыпать угля». Он видел: город горел, но не хотел верить, что это его родной город, поэтому еще раз спросил у раненого, который лежал рядом: какой это город. И снова услышал - Бендорф.
Теперь нельзя было уже сомневаться, что он лежит в зале рисования классической гимназии в Бендорфі, но он никак не хотел верить, что это именно та гимназия, где он учился. Он вспоминал, что таких гимназий в городе было три, одна из них «может, лучше было бы этого и не говорить,- но последняя, третья, называлась гимназия Адольфа Гитлера».
Он слышал, как били пушки, ему нравилась их музыка. «Успокаивающе гудели те пушки: глухо и строго, словно тихая, почти возвышенная органная музыка». Что-то благородное услышал он в той музыке, «такая торжественная луна, точно как в той войне, о которой пишут в книжках с картинками». Потом размышлял, сколько имен будет на той таблице павших, которую прибьют здесь впоследствии. Неожиданно пришло в голову, что и его имя будет укарбоване в камень. Словно это была последняя дело в его жизни, он хотел непременно знать, это «и» гимназия и тот зал рисования, где он провел столько часов, рисуя вазы и сочиняя разные шрифты. Он ненавидел те уроки более всего в гимназии и часами погибал от скуки и ни разу не смог толком нарисовать вазу или написать букву. Теперь ему все было безразлично, он даже не мог вспомнить свою ненависть.
Он не помнил, как его ранили, знал только, что не может шевелить руками и правой ногой, а левой только слегка. Надеялся, что их так тесно примотали к туловищу. Он попытался пошевелить руками и почувствовал такую боль, что снова закричал от боли и ярости, что руки не шевелятся. Наконец над ним наклонился врач. Позади стоял пожарный и тихо что-то говорил врачу на ухо. Тот долго смотрел на парня, потом сказал, что скоро и его очередь. За доску, где сиял свет, понесли соседу. Потом ничего не было слышно, пока санитары устало не вынесли соседу и понесли к двери. Парень снова закрыл глаза и сказал себе, что должен узнать, какая у него рана и действительно ли он в своей школе. Все, на чем останавливался его взгляд, было далеко и безразлично, «как будто меня принесли к какому музея мертвых в мир глубоко чужд мне и неинтересно, который почему-то узнавали мои глаза, но сами только глаза». Он не мог поверить, что прошло только три месяца с того времени, как он рисовал здесь, а на перемене, взяв свой бутерброд с повидлом, шел к сторожа Біргелера пить молоко вниз в тесную каморку. Он подумал, что его соседу, наверное, понесли туда, где клали мертвых; может, мертвецов относили в маленькую Біргелерову комнатку, где когда-то пахло теплом молоком.
Санитары подняли его и понесли за доску. Над дверями зала когда-то висел крест, потому и называлась гимназия школой святого Фомы. Потом «они» (фашисты) креста сняли, но на том месте остался свежий след, такой отчетливый, что его было видно лучше, чем сам крест. Даже когда стену перекрасили, крест выступил снова. Теперь он увидел то следует от креста.
За доской стоял операционный стол, на который героя и положили. Он на мгновение увидел себя в ясном стекле лампы, но показалось ему, что он коротенький, узкий свиток марли. Врач повернулся к нему спиной, возился в инструментах. Пожарный стоял напротив доски и улыбался, устало и скорбно. Вдруг за его плечами, на нестертому втором стороне доски, герой увидел нечто такое, от чего сердце впервые отозвалось: «...где-то в его потаенном уголке вынырнул испуг, глубокий и страшный, и оно забилось у меня в груди - на доске было написано моей рукой». «Вон он, все еще там, то выражение, которое нам велели тогда написать, в том безнадежном жизни, которое закончилось всего три месяца назад: «Путник, когда ты придешь в Спа...». Он вспомнил, что ему тогда не хватило доски, потому что он не рассчитал как следует, взял большие буквы. Вспомнил, как кричал тогда учитель рисования, а потом сам написал. Семь раз был там написано разными шрифтами: «Путник, когда ты придешь в Спа...» Пожарный отступил, теперь герой увидел весь выражение, только немного испорчен, потому что буквы выбрал великоваты.
Он почувствовал укол в левое бедро, хотел приподняться на локте и не смог, но успел взглянуть на себя: обеих рук не было, не было и правой ноги. Он упал на спину, потому что не на что опереться, закричал. Врач и пожарный испуганно посмотрели на него. Герой еще раз хотел посмотреть на доску, но пожарник стоял так близко, крепко держа за плечи, что заслонил ее, и герой видел лишь усталое лицо. Вдруг герой узнал в том пожарному школьного сторожа Біргелера. «Молока, - тихо сказал герой.
Stranger, Bear Word to the Spartans We... ) - рассказ Генриха Теодора Бёлля . Сюжет представляет собой внутренний монолог солдата Второй мировой войны, которого, раненного, несут на носилках через коридоры его прежней школы, которую он покинул за три месяца до описываемых событий. в школе устроен временный военный госпиталь. Солдат подмечает знакомые детали, но не желает узнавать по ним коридоры и помещения собственной школы. Только когда его приносят в художественный класс, он наконец должен признать, что это действительно его школа , так как на доске класса было написано его же почерком: «Путник, когда ты придёшь в Спа…».Однако Бёлль сокращает слово «Спарта» до «Спа…», что является отсылкой к бельгийскому муниципалитету Спа , в котором располагался офис немецкого командования во время предыдущей, Первой мировой , войны. Из чего следует, что Бёлль стремится показать Вторую мировую войну как повторение истории .
Напишите отзыв о статье "Путник, когда ты придёшь в Спа..."
Примечания
Литература
- Manuel Baumbach: Wanderer, kommst du nach Sparta. Zur Rezeption eines Simonides-Epigramms . In: Poetica 32 (2000) Issue 1/2, pp. 1-22.
- Klaus Jeziorkowski: Die Ermordung der Novelle. Zu Heinrich Bölls Erzählung In: Heinrich Böll. Zeitschrift der koreanischen Heinrich Böll-Gesellschaft . 1st ed. (2001), pp. 5-19.
- David J. Parent: Böll’s «Wanderer, kommst du nach Spa». A Reply to Schiller’s «Der Spaziergang». In: Essays in Literature 1 (1974), pp. 109-117.
- J. H. Reid: Heinrich Böll, «Wanderer, kommst du nach Spa…» Klassische deutsche Kurzgeschichten. Interpretationen . Stuttgart 2004, pp. 96-106.
- Gabriele Sander: «Wanderer, kommst du nach Spa…» . In: Werner Bellmann (Pub.): Heinrich Böll. Romane und Erzählungen. Interpretationen . Philipp Reclam jun., Stuttgart 2000, ISBN 3-15-017514-3 , pp. 44-52.
- Bernhard Sowinski: Wanderer, kommst du nach Spa… . In: Bernhard Sowinski: Heinrich Böll. Kurzgeschichten . Oldenbourg, München 1988, ISBN 3-486-88612-6 , pp. 38-51.
- Albrecht Weber: «Wanderer, kommst du nach Spa…» . In: Interpretationen zu Heinrich Böll verfaßt von einem Arbeitskreis. Kurzgeschichten I . 6th ed. Munich 1976, pp. 42-65.
Отрывок, характеризующий Путник, когда ты придёшь в Спа...
– Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, – отвечал Бенигсен.Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, посылавшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведение казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и отдал приказание на то, что он считал бесполезным и вредным, – благословил совершившийся факт.
Записка, поданная Бенигсеном о необходимости наступления, и сведения казаков о незакрытом левом фланге французов были только последние признаки необходимости отдать приказание о наступлении, и наступление было назначено на 5 е октября.
4 го октября утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая ему заняться дальнейшими распоряжениями.
– Хорошо, хорошо, мне теперь некогда, – сказал Ермолов и вышел из избы. Диспозиция, составленная Толем, была очень хорошая. Так же, как и в аустерлицкой диспозиции, было написано, хотя и не по немецки:
«Die erste Colonne marschiert [Первая колонна идет (нем.) ] туда то и туда то, die zweite Colonne marschiert [вторая колонна идет (нем.) ] туда то и туда то» и т. д. И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и уничтожали неприятеля. Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место.
Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергардский офицер, ординарец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова.
– Уехали, – отвечал денщик Ермолова. Кавалергардский офицер пошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов.
– Нет, и генерала нет.
Кавалергардский офицер, сев верхом, поехал к другому.
– Нет, уехали.
«Как бы мне не отвечать за промедление! Вот досада!» – думал офицер. Он объездил весь лагерь. Кто говорил, что видели, как Ермолов проехал с другими генералами куда то, кто говорил, что он, верно, опять дома. Офицер, не обедая, искал до шести часов вечера. Нигде Ермолова не было и никто не знал, где он был. Офицер наскоро перекусил у товарища и поехал опять в авангард к Милорадовичу. Милорадовича не было тоже дома, но тут ему сказали, что Милорадович на балу у генерала Кикина, что, должно быть, и Ермолов там.
– Да где же это?
– А вон, в Ечкине, – сказал казачий офицер, указывая на далекий помещичий дом.
– Да как же там, за цепью?
– Выслали два полка наших в цепь, там нынче такой кутеж идет, беда! Две музыки, три хора песенников.
Офицер поехал за цепь к Ечкину. Издалека еще, подъезжая к дому, он услыхал дружные, веселые звуки плясовой солдатской песни.
«Во олузя а ах… во олузях!..» – с присвистом и с торбаном слышалось ему, изредка заглушаемое криком голосов. Офицеру и весело стало на душе от этих звуков, но вместе с тем и страшно за то, что он виноват, так долго не передав важного, порученного ему приказания. Был уже девятый час. Он слез с лошади и вошел на крыльцо и в переднюю большого, сохранившегося в целости помещичьего дома, находившегося между русских и французов. В буфетной и в передней суетились лакеи с винами и яствами. Под окнами стояли песенники. Офицера ввели в дверь, и он увидал вдруг всех вместе важнейших генералов армии, в том числе и большую, заметную фигуру Ермолова. Все генералы были в расстегнутых сюртуках, с красными, оживленными лицами и громко смеялись, стоя полукругом. В середине залы красивый невысокий генерал с красным лицом бойко и ловко выделывал трепака.
– Ха, ха, ха! Ай да Николай Иванович! ха, ха, ха!..
Офицер чувствовал, что, входя в эту минуту с важным приказанием, он делается вдвойне виноват, и он хотел подождать; но один из генералов увидал его и, узнав, зачем он, сказал Ермолову. Ермолов с нахмуренным лицом вышел к офицеру и, выслушав, взял от него бумагу, ничего не сказав ему.
– Ты думаешь, это нечаянно он уехал? – сказал в этот вечер штабный товарищ кавалергардскому офицеру про Ермолова. – Это штуки, это все нарочно. Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет!
На другой день, рано утром, дряхлый Кутузов встал, помолился богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которого он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташевки, в пяти верстах позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не начиналось ли дело? Но все еще было тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, ведших на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил, какого полка? Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. «Ошибка, может быть», – подумал старый главнокомандующий. Но, проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат за кашей и с дровами, в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказания о выступлении не было.
Рассказ написано от первого лица, события происходят во время второй мировой войны. В названии произведения Белль использует первые строки знаменитой эпитафии тремстам спартанцам, павшим, обороняясь от нашествия персов.
Санитарная машина, в которой находится герой, подъехала к большой ворот. Он увидел свет. Машина остановились. Первое, что услышал, был усталый голос, который спрашивал, есть ли в машине мертвецы. Шофер выругался на то, что везде столько света. Но тот же голос, который спрашивал о мертвецах, заметил, что нет никакой необходимости делать затмения, когда весь город в огне. Потом опять говорили коротко: о мертвецах, где их сложить, и о живых, куда их нести. Поскольку герой жив и осознает это, его несут вместе с другими ранеными в зал рисования. Сначала он видит длинный коридор, вернее, его окрашенные стены со старомодными крючками для одежды, потом дверь с табличками, вешают на классные комнаты: «6», «6 Б» и т.д., тогда репродукции с картин между этими дверями. Картины славные: лучшие образцы искусства от античности до современности. Перед выходом на лестничную площадку колонна, а за ней искусно сделанный гипсовый макет фриза Парфенона. На лестничной клетке изображения кумиров человечества — от античных до Гитлера. Санитары несут носилки быстро, поэтому герой не успевает осознать все, что он видит, но кажется ему то все удивительно знакомым. Например, эта таблица, перевитая каминным лавровым венком с именами павших в предыдущей войне, с большим золотым Железным крестом наверху. Впрочем, подумал он, возможно, все это только снится ему, ибо «все у меня болело — голова, руки, ноги, и сердце колотилось, как неистовая». И снова видит герой двери с табличками и гипсовые копии с бюстов Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия. «А когда мы зашли за угол, появилась и Гермесова колонна, а дальше, в глубине коридора — коридор здесь был окрашен в розовый цвет, до самого в глубине, над дверями зала для рисования, висела огромная физиономия Зевса, но к ней было еще далеко. Справа в окне я видел зарево пожара — все небо было красное, и по нему торжественно плыли черные, густые облака дыма ». Он заметил и узнал прекрасный вид Того, и изображенную на нем на первый план связку бананов, даже надпись на среднем банане, потому что он сам когда-то такой нацарапал. «И вот широко распахнулись двери зала рисования, я упал туда во Зевсовым изображением и закрыл глаза. Я не хотел больше ничего видеть. в зале рисования пахло йодом, калом, марлей и табаком и было шумно ».
Носилки поставили на пол. Герой попросил сигарету, кто воткнул ее уже зажженную у рта. Он лежал и думал: все, что он видел, еще не доказательство. Не доказательство того, что он оказался в школе, которую покинул лишь три месяца назад. Видимо, все гимназии похожи друг на друга, думал он, видимо, есть правила, где сказано, Что именно там должно висеть, правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии. Он не мог поверить, что оказался в родной школе, потому что ничего не чувствовал. Боль, которая так мучила его дорогой в машине, прошел, наверное, то действие каких лекарств, ввели ему, когда он кричал. Закрыв глаза, он вспоминал все, что только видел, как в бреду, но так хорошо знал, потому восемь лет не пустяк. А именно восемь лет он ходил в гимназию, видел те классические произведения искусства. Он выплюнул сигарету и закричал. «… Когда кричишь, становится легче, надо только кричать громче, кричать было так хорошо и я кричал, как оглашенный». Кто наклонился над ним, он не открыл глаз, почувствовал только теплое дыхание и «приторно пахнуло табаком и луком», и некий голос спокойно спросил, чего он кричит. Герой попросил пить, опять сигарету и спросил, где он находится. Ему ответили — в Бендорфи, т.е. в его родном городе. Если бы не горячка, он бы узнал свою гимназию, почувствовал бы то, что должен чувствовать человек в родной места, — подумал герой. Наконец ему принесли воды. Невольно открыв глаза, он увидел перед собой уставшее, старое, небритое лицо, пожарную форму и услышал старческий голос. Он пил, с наслаждением ощущая на губах даже металлический привкус котелка, но пожарник неожиданно отнял котелка и пошел прочь, не обращая внимания на его крики. Раненый, лежавший рядом, объяснил: у них нет воды. Герой посмотрел в окно, хотя оно и было затемнено, «за черными занавесками теплилось и мелькало, черное на красном, как в печке, когда туда подсыпать угля». Он видел: город горел, но не хотел верить, что это его родной город, поэтому еще раз спросил у раненого, лежавшего рядом: какое это город. И снова услышал — Бендорф.
Теперь следует уже сомневаться, что он лежит в зале рисования классической гимназии в Бендорфи, но он никак не хотел верить, что это именно та гимназия, где он учился. Он вспоминал, что таких гимназий в городе было три, одна из них «может, лучше было бы этого и не говорить, — но последняя, третья, называлась гимназия Адольфа Гитлера».
Он слышал, как били пушки, ему нравилась их музыка. «Успокаивающе гудели те пушки: глухо и строго, словно тихая, почти возвышенная органная музыка». То благородное услышал он в той музыке, «такая торжественная эхо, совсем как в той войне, о которой пишут в книгах с рисунками». Потом подумал, сколько имен будет на той таблице павших, которую прибьют здесь позже. Вдруг пришло в голову, что и его имя будет укарбоване в камень. Словно это была последняя дело в его жизни, он хотел непременно знать, это «да» гимназия и тот зал рисования, где он провел столько часов, рисуя вазы и писал разные шрифты. Он ненавидел те уроки более всего в гимназии и часами погибал от скуки и ни разу не смог толком нарисовать вазу или написатьИтеру. Теперь ему все было то безразлично, он даже не мог вспомнить свою ненависть.
Он не помнил, как его ранили, знал только, что не может шевелить руками и правой ногой, а левой только слегка. Надеялся, что их так тесно примотала к туловищу. Он попытался пошевелить руками и почувствовал такую боль, что снова закричал: от боли и ярости, руки не шевелятся. Наконец над ним наклонился врач. Позади стоял пожарный и тихо что-то говорил врачу на ухо. Тот долго смотрел на парня, потом сказал, что скоро и его очередь. За доску, где сияло свет, понесли соседу. Потом ничего не было слышно, пока санитары устало не вынесли соседу и понесли к выходу. Парень снова закрыл глаза и сказал себе, что должен узнать, какая у него рана и действительно ли он в своей школе. Все, на чем останавливался его взгляд, было далекое и безразличное, «будто меня принесли к какому музея мертвых в мир глубоко чуждый мне и неинтересен, который почему узнавали мои глаза, но одни только глаза». Он не мог поверить, что прошло всего три месяца с того времени, как он рисовал здесь, а на перемене, взяв свой бутерброд с повидлом, шел к сторожу Биргелера пить молоко вниз в тесную каморку. Он подумал, что соседу его, наверное, понесли туда, где клали мертвых, может, мертвецов относили в маленькую Биргелерову комнатку, где когда пахло теплом молоком.
Санитары подняли его и понесли за доску. Над дверью зала некогда висел крест, потому называлась и гимназия школой святого Фомы. Потом «они» (фашисты) креста сняли, но на том городе остался свежий след, такой выразительный, что его было видно лучше, чем сам крест. Даже когда стену перекрасили, крест выступил снова. Теперь он увидел тот след от креста.
За доской стоял операционный стол, на который героя и положили. Он на мгновение увидел себя в ясном стекле лампы, но показалось ему, что он коротенький, узкий свиток марли. Врач повернулся к нему спиной, возился в инструментах. Пожарный стоял напротив доски и улыбался, устало и скорбно. Вдруг за его плечами, на нестертому другой стороне доски, герой увидел нечто такое, от чего сердце впервые отозвалось: «… где-то в потаенном его уголке вынырнул испуг, глубокий и страшный, и оно забилось у меня в груди — на доске была надпись моей рукой ». «Вот он, все еще там, то выражение, которое нам велели тогда написать, в том безнадежном жизни, которое закончилось всего три месяца назад:« Путник, когда ты придешь в Спа … " Он вспомнил, что ему тогда не хватило доски, он не рассчитал как следует, взял великоваты буквы. Вспомнил, как кричал тогда учитель рисования, а потом сам написал. Семь раз было там написано разными шрифтами: «Путник, когда ты придешь в Спа …» Пожарный отступил, теперь герой увидел весь высказывание, только немного испорчен, потому буквы выбрал великоваты.
Он услышал укол в левое бедро,хотел подняться на локти и не смог, но успел взглянуть на себя: обеих рук не было, не было и правой ноги. Он упал на спину, потому что не имел на что опереться, закричал. Врач и пожарный испуганно посмотрели на него. Герой еще раз хотел посмотреть на доску, но пожарник стоял так близко, крепко держа за плечи, что заступил ее, и герой видел лишь усталое лицо. Вдруг герой узнал о том пожарному школьного сторожа Биргелера. «Молока», — тихо произнес герой.
7 КЛАСС
ГЕНРИХ БЕЛЛЬ
ПУТНИК, КОГДА ТЫ ПРИДЕШЬ В СПА...
(Сокращенно)
Машина остановилась, но мотор еще гурчав; где-то отворилась большая брама. Сквозь разбитое окно в машину влетело свет, и тогда я увидел, что и лампочку под потолком разбито вдребезги, только свиток еще торчал в патроне - несколько мерцающих дротиков с остатками стекла. Потом мотор смолк, и снаружи пробрался чей-то голос:
Мертвецов сюда. Есть там мертвецы?
Туда к черту, - выругался шофер. - Вы что, уже больше не делаете затмение?
Пособит тут затмение, когда весь город горит огнем! - крикнул тот же голос. - Мертвецы есть, спрашиваю?
Не знаю.
Мертвецов сюда, слышал? А остальные лестнице наверх, в зал рисования, понял?
Так, так, понял.
И я не был еще мертв, я принадлежал к остальным, и меня понесли по лестнице вверх.
Сначала шли по длинным, тускло освещенным коридором, с зелеными, рисованными масляной краской стенами, в которые повбивано черные, кривые, старосветские крючки на одежду; вот вынырнули двери с эмалированными табличками: 6-А и 6-Б, между теми дверями висела, ласково поблескивая под стеклом в черной раме, Фейєрбахова «Медея» со взглядом в даль; потом пошли двери с табличками: 5-А и 5-Б, а между ними - «Мальчик, вынимающий -- » -- прелестная, с красноватым отливом фото в коричневой раме.
А вот уже и колонна перед выходом на лестничную помісток, и длинный, узкий фриз Парфенона за ней... и все остальное, давно знакомое: греческий гопліт, до пят вооружен, наїжений и грозный, похожий на разъяренного петуха. На самом же помістку, на стене, окрашенной желтым, гордились все они - от великого курфюрста до Гитлера. <...>
И снова мои носилки упали, мимо меня поплыли... теперь образцы арийской породы: нордический капитан с орлиным взглядом и глупым ртом, женская модель с Западного Мозеля, немного сухощавая и костиста, остзейський дурносміх с носом-луковицей и борлакуватим длинным профилем верховинца из кинофильмов; а дальше вновь потянулся коридор... я успел увидеть и ее - перевиту каминным лавровым венком таблицу с именами павших, с большим золотым Железным крестом вверху.
Все это прошло очень быстро: я не тяжелый и санитары торопились. Не чудо, если оно мне и пригрезилось: я весь горел, все у меня болело - голова, руки, ноги; и сердце калаталось, словно неистовое. Чего только не привидится в бреду!
И когда мы миновали образцовых арийцев, за ними всплыло и все остальное: трое погруддів - Цезарь, Цицерон и Марк Аврелий... А когда мы нашли за угол, появилась и Гермесова колонна... Справа в окне я видел зарево пожара - все небо было красное, и по нему торжественно плыли черные, густые облака дыма. <...>
И вновь я мимоходом глянул влево, и вновь увидел двери с табличками: 01-А 01-Б, а между этими бурыми, словно пропитанными затклістю дверью углядел в золотой раме усы и кончик носа Ницше - вторую половину портрета было залеплено бумагой с надписью: «Легкая хирургия».
Если сейчас, - мелькнуло у меня в голове, - если сейчас. И вот и он, его уже увидел - вид Того... замечательная олеографія... на первом плане картины красовалась большая, изображенная в натуральную величину вязка бананов - слева гроздь, справа гроздь, и именно на среднем банане в правом кетягу было что-то нацарапано; я разглядел эту надпись, потому что, кажется, сам его и нацарапал. <...>
Вот широко распахнулись двери зала рисования, я влияние туда под изображением Зевса и закрыл глаза.
Я не хотел больше ничего видеть. <...>
В зале рисования пахло йодом, калом, марлей и табаком и стоял гомон.
Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам:
Устроміть мне в рот сигарету, вверху, в левом кармане.
Я почувствовал, как кто-то полапав в моем кармане, потом тернули сірником, и у меня во рту оказалась зажженная сигарета. Я затянулся.
Спасибо, - сказал я.
Все где, думалось мне, еще не доказательство. В конце концов, в каждой гимназии есть залы рисования, коридоры с зелеными и желтыми стена мы и кривыми, старомодными крючками в них, в конечном счете, то, что «Медея» висит между 6-А и 6-Б, - еще не доказательство, что я в своей школе. Видимо, есть правила для классических гимназий в Пруссии, где сказано, что именно там они должны висеть... Ведь и остроты во всех гимназиях одинаковые. Кроме этого, может, я с горячки начал бредить.
Боли я не чувствовал. В машине было мне очень плохо... Но теперь стала, пожалуй, действовать инъекция. <...>
Этого никак не может быть, думал я, машина просто не могла о ехать на такое большое расстояние - тридцать километров. И еще одно: ты ничего не чувствуешь; никакое чутье тебе ничего не говорит, одни только глаза; ни одно чувство не говорит тебе, что ты в своей школе, в своей школе, которую всего три месяца назад бросил. Восемь лет - не дрібни эта, неужели же ты, проучившись здесь восемь лет, познавал бы все самы мы только глазами? <...>
Я выплюнул сигарету и закричал; когда кричишь легче, надо только кричать сильнее, кричать было так хорошо, я кричал, как сумасшедший. <...>
Ну, чего?
Пить, - сказал я, - и еще сигарету, в кармане, вверху.
Опять кто-то потрогал в моем кармане, снова потер спичкой, и мне воткнули в рот зажженную сигарету.
Где мы? - спросил я.
В Бендорфі.
Спасибо, - сказал я и затянулся.
Видимо, я таки в Бендорфі, то есть дома, и если бы у меня не эта страшная лихорадка, я мог бы утверждать наверняка, что я в какой-то классической
гимназии; по крайней мере, что я в школе, - это бесспорно. Разве же тот голос внизу не крикнул: «Оставшиеся в зал рисования!» Я был один из остальных, был жив, живы, наверное, и составляли «остальные». <...>
Наконец он принес мне воды, снова от него повеяло на меня духом табака и лука, я невольно открыл глаза и увидел уставшее, старое, небритое лицо в пожарной форме, и старческий голос тихо проговорил:
Пей, дружище!
Я начал пить, то была вода, но вода - прекрасный напиток; я ощутимы на губах металлический вкус казанка, с наслаждением сознавал, много еще там воды, но пожарник неожиданно отнял казанка от моих губ и пошел прочь; я закричал, но он не оглянулся, только устало пожал плечами и пошел дальше; раненый, лежавший возле меня, спокойно сказал:
Зря шуметь, у них нет воды, ты же видишь. <...>
Какой это город? - спросил я того, что лежал возле меня, Бендорф, - сказал он.
Теперь уже нельзя было сомневаться, что я лежу в зале рисования некой классической гимназии в Бендорфі. В Бендорфі три классические гимназии: гимназия Фридриха Великого, гимназия Альберта и - может, лучше было бы этого и не говорить, - но последняя, третья, называлась гимназия Адольфа Гитлера.
Разве в гимназии Фридриха Великого не висел на лестничной клетке такой яркий, такой красивый, огромный портрет старого Фрица? Я провч ився в той гимназии восемь лет, но разве такой портрет не мог висеть в другой школе на том же месте, такой яркий, что в ідразу бросался в глаза; как только ступишь на второй этаж? <...>
Теперь я слышал, как где-то били тяжелые пушки... уверенно и размеренно, и я думал: дорогие пушки! Я знаю, что это подло, но я так думал... Как на меня, в пушках есть что-то благородное, даже когда они стреляют. Такая торжественная луна, точно как в той войне, о которой пишут в книжках с картинками... Потом я размышлял, сколько имен будет на той таблицы павших, которую, пожалуй, прибьют здесь впоследствии, украсив ее еще большим золотым Железным крестом и вквітчавши еще большим лавровым венком. И вдруг мне пришло в голову, что когда я действительно в своей школе, то и мое имя будет стоять там, укарбоване в камень, а в школьном календаре против моей фамилии будет написано Ушел из школы на фронт и погиб за...»
И я еще не знал, за что, и не знал еще наверняка, я в своей школе, я хотел теперь об этом узнать. <...>
Я вновь повел глазами вокруг, но... Сердце во мне не отзывалось. То ли бы оно и тогда не обізвалося, если бы я оказался в той комнате, где целых восемь лет рисовал вазы и писал шрифты? Стройные, прекрасные, изысканные вазы, прекрасные копии римских оригиналов, - учитель рисования всегда ставил их перед нами на подставку, - и всевозможные шрифты: рондо, ровный, римский, итальянский. Я ненавидел те уроки превыше всего в гимназии, я часами погибал с тоски и ни разу не сумел толком нарисовать вазу или написать букву. И где же делись мои проклятия, где делась моя жгучая ненависть к этим остогидлих, будто вилинялих стен? Ничто во мне не озивалось, и я молча покачал головой.
Я то и дело стирал, застругував карандаша, снова стирал... И - ничего. <...>
Я не помнил, как меня ранили, я знал одно: что не пошевелю руками и правой ногой, только левой, да и то только полуприкрытой. Я думал, может, это они так крепко примотали мне руки к туловищу, что я не могу пошевелить ими. <...>
Наконец передо мной вырос врач; он снял очки и, моргая, молча смотрел на меня... я отчетливо увидел за толстыми стеклами большие серые глаза с едва тремтливими зрачками. Он смотрел на меня так долго, что я отвел глаза, а потом тихо сказал:
Минуточку, уже скоро ваша очередь. <...>
Я вновь закрыл глаза и подумал: ты должен, должен узнать, что у тебя за рана и ты действительно в своей школе. <...>
Вот санитары вновь вошли в зал, теперь они подняли меня и понесли туда, за доску. Я раз поплыл мимо двери и, проплывая, присмотрел еще одну примету: здесь, над дверью висел когда-крест, как гимназия называлась еще школой Святого Фомы; креста они потом сняли, но на том месте на стене остался свежий темно-желтый след от него. Тогда они зозла перекрасили всю стену, и мар ка... Креста было видно, и, как присмотреться внимательнее, можно было разглядеть даже неровный след на правом конце поперечины, там, где годами висела буковая ветка, которую цеплял сторож Біргелер. <...> Все это промелькнуло у меня в толовая за тот краткий миг, пока меня несли за доску, где горел яркий свет.
Меня положили на операционный стол, и я хорошо увидел самого себя, только маленького, будто укороченного, вверху, в ясном стекле лампочки - такой коротенький, белый, узкий свиток марли, как будто химер ный, хрупкий кокон; значит, это было мое отражение.
Врач повернулся ко мне спиной и, наклонившись над столом, рылся в инструментах; старый, отяжелевший пожарный стоял напротив доски и улыбался мне; он улыбался устало и скорбно, и заросшее, невмиване его лицо было такое, будто он спал. И вдруг за его плечами, на нестертому другой стороне доски я увидел нечто такое, от чего впервые с тех пор, как я оказался в этом мертвом доме, отозвалось мое сердце... Надошці была надпись моей рукой. Вверху, в самом высоком ряду. Я знаю свою руку; увидеть свое письмо - хуже, чем увидеть себя самого в зеркале, - куда больше вероятности. Идентичность собственного письма я уже никак не мог взять под сомнение... Вон он, еще и до сих пор там, то выражение, которое нам велели тогда написать, в том безнадежном жизни, которое закончилось всего три месяца назад «Путник, когда ты придешь в Спа...»
О, я помню, мне не хватило доски, и учитель рисования раскричался, что я не рассчитал как следует, взял большие буквы, а тогда сам, качая головой, написал тем же шрифтом ниже: «Пустой, когда ты придешь в Спа...»
Семь раз было там написано - моим письмом, латинским шрифты, готическим курсивом, римским, итальянским И рондо «Путник, когда ты придешь в Спа...»
На тихий врачей зов пожарный отступил от доски, и я увидел весь высказывание, только немного испорчен, потому что я не рассчитал как следует, выбрал большие буквы, взял слишком много пунктов.
Я стебнувся, почувствовав укол в левое бедро, хотел было подняться на л ікті и не смог, но успел взглянуть на себя и увидел, - меня уже размотали, - что у меня нет обеих рук, нет правой ноги, тем-то я сразу упал на спину, потому что не имел теперь на что опереться; я закричал; врач с пожарником испуганно посмотрели на меня; и врач только пожал плечами и вновь нажал на поршень шприца, медленно и твердо пошел вниз; я хотел еще раз посмотреть на доску, но пожарник стоял теперь совсем близко возле меня и замещал ее; он крепко держал меня за плечи, и я слышал только дух смалятини и грязи, что шел от его мундира, видел только его усталое, скорбное лицо; и вдруг я его узнал: то был Біргелер.
Молока, - тихо сказал я...
Перевод Есть. Горевої
Генрих Бёлль
Путник, придешь когда в Спа
Машина остановилась, но мотор еще несколько минут урчал; где-то распахнулись ворота. Сквозь разбитое окошечко в машину проник свет, и я увидел, что лампочка в потолке тоже разбита вдребезги; только цоколь ее торчал в патроне - несколько поблескивающих проволочек с остатками стекла. Потом мотор затих, и на улице кто-то крикнул:
Мертвых сюда, есть тут у вас мертвецы?
Ч-черт! Вы что, уже не затемняетесь? - откликнулся водитель.
Какого дьявола затемняться, когда весь город горит, точно факел, крикнул тот же голос. - Есть мертвецы, я спрашиваю?
Не знаю.
Мертвецов сюда, слышишь? Остальных наверх по лестнице, в рисовальный зал, понял?
Но я еще не был мертвецом, я принадлежал к остальным, и меня понесли в рисовальный зал, наверх по лестнице. Сначала несли по длинному, слабо освещенному коридору с зелеными, выкрашенными масляной краской стенами и гнутыми, наглухо вделанными в них старомодными черными вешалками; на дверях белели маленькие эмалевые таблички: «VIa» и «VIb»; между дверями, в черной раме, мягко поблескивая под стеклом и глядя вдаль, висела «Медея» Фейербаха. Потом пошли двери с табличками «Va» и «Vb», а между ними снимок со скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу», превосходная, отсвечивающая красным фотография в коричневой раме.
Вот и колонна перед выходом на лестничную площадку, за ней чудесно выполненный макет - длинный и узкий, подлинно античный фриз Парфенона из желтоватого гипса - и все остальное, давно привычное: вооруженный до зубов греческий воин, воинственный и страшный, похожий на взъерошенного петуха. В самой лестничной клетке, на стене, выкрашенной в желтый цвет, красовались все - от великого курфюрста до Гитлера…
А на маленькой узкой площадке, где мне в течение нескольких секунд удалось лежать прямо на моих носилках, висел необыкновенно большой, необыкновенно яркий портрет старого Фридриха - в небесно- голубом мундире, с сияющими глазами и большой блестящей золотой звездой на груди.
И снова я лежал скатившись на сторону, и теперь меня несли мимо породистых арийских физиономий: нордического капитана с орлиным взором и глупым ртом, уроженки Западного Мозеля, пожалуй чересчур худой и костлявой, остзейского зубоскала с носом луковицей, длинным профилем и выступающим кадыком киношного горца; а потом добрались еще до одной площадки, и опять в течение нескольких секунд я лежал прямо на своих носилках, и еще до того, как санитары начали подниматься на следующий этаж, я успел его увидеть - украшенный каменным лавровым венком памятник воину с большим позолоченным Железным крестом наверху.
Все это быстро мелькало одно за другим: я не тяжелый, а санитары торопились. Конечно, все могло мне только почудиться; у меня сильный жар и решительно все болит: голова, ноги, руки, а сердце колотится как сумасшедшее - что только не привидится в таком жару.
Но после породистых физиономий промелькнуло и все остальное: все три бюста - Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, рядышком, изумительные копии; совсем желтые, античные и важные стояли они у стен; когда же мы свернули за угол, я увидел и колонну Гермеса, а в самом конце коридора - этот коридор был выкрашен в темно-розовый цвет, - в самом-самом конце над входом в рисовальный зал висела большая маска Зевса; но до нее было еще далеко. Справа в окне алело зарево пожара, все небо было красное, и по нему торжественно плыли плотные черные тучи дыма…
И опять я невольно перевел взгляд налево и увидел над дверьми таблички «Xa» и «Xb», а между этими коричневыми, словно пропахшими затхлостью дверьми виднелись в золотой раме усы и острый нос Ницше, вторая половина портрета была заклеена бумажкой с надписью «Легкая хирургия»…
Если сейчас будет… мелькнуло у меня в голове. Если сейчас будет… Но вот и она, я вижу ее: картина, изображающая африканскую колонию Германии Того, - пестрая и большая, плоская, как старинная гравюра, великолепная олеография. На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом, неизвестно для чего торчащим тут со своей винтовкой, - на самом-самом переднем плане желтела большая, в натуральную величину, связка бананов; слева гроздь, справа гроздь, и на одном банане в самой середине этой правой грозди что-то нацарапано, я это видел; я сам, кажется, и нацарапал…
Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал, и я проплыл под маской Зевса и закрыл глаза. Я ничего не хотел больше видеть. В зале пахло йодом, испражнениями, марлей и табаком и было шумно. Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам:
Суньте мне сигарету в рот. В верхнем левом кармане.
Я почувствовал, как чужие руки пошарили у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и во рту у меня оказалась зажженная сигарета. Я затянулся.
Спасибо, - сказал я.
Все это, думал я, еще ничего не доказывает. В конце концов, в любой гимназии есть рисовальный зал, есть коридоры с зелеными и желтыми стенами, в которых торчат гнутые старомодные вешалки для платья; в конце концов, это еще не доказательство, что я нахожусь в своей школе, если между «IVa» и «IVb» висит «Медея», а между «Xa» и «Xb» - усы Ницше. Несомненно, существуют правила, где сказано, что именно там они и должны висеть. Правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии: «Медея» - между «IVa» и «IVb», там же «Мальчик, вытаскивающий занозу», в следующем коридоре - Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон, а Ницше на верхнем этаже, где уже изучают философию. Фриз Парфенона и универсальная олеография - Того. «Мальчик, вытаскивающий, занозу» и фриз Парфенона это, в конце концов, не более чем добрый старый школьный реквизит, переходящий из поколения в поколение, и наверняка я не единственный, кому взбрело в голову написать на банане «Да здравствует Того!». И выходки школьников, в конце концов, всегда одни и те же. А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред.
Боли я теперь не чувствовал. В машине я еще очень страдал; когда ее швыряло на мелких выбоинах, я каждый раз начинал кричать. Уж лучше глубокие воронки: машина поднимается и опускается, как корабль на волнах. Теперь, видно, подействовал укол; где-то в темноте мне всадили шприц в руку, и я почувствовал, как игла проткнула кожу и ноге стало горячо…
Да это просто невозможно, думал я, машина наверняка не прошла такое большое расстояние - почти тридцать километров. А кроме того, ты ничего не испытываешь, ничто в душе не подсказывает тебе, что ты в своей школе, в той самой школе, которую покинул всего три месяца назад. Восемь лет - не пустяк, неужели после восьми лет ты все это узнаешь только глазами?
Я закрыл глаза и опять увидел все как в фильме: нижний коридор, выкрашенный зеленой краской, лестничная клетка с желтыми стенами, памятник воину, площадка, следующий этаж: Цезарь, Марк Аврелий… Гермес, усы Ницше, Того, маска Зевса…
Я выплюнул сигарету и закричал; когда кричишь, становится легче, надо только кричать погромче; кричать - это так хорошо, я кричал как полоумный. Кто-то надо мной наклонился, но я не открывал глаз, я почувствовал чужое дыхание, теплое, противно пахнущее смесью лука и табака, и услышал голос, который спокойно спросил:
Чего ты кричишь?
Пить, - сказал я. - И еще сигарету. В верхнем кармане.
Опять чужая рука шарила в моем кармане, опять чиркнула спичка и кто-то сунул мне в рот зажженную сигарету.
Где мы? - спросил я.
В Бендорфе.
Спасибо, - сказал я и затянулся.
Все-таки я, видимо, действительно в Бендорфе, а значит, дома, и, если бы не такой сильный жар, я